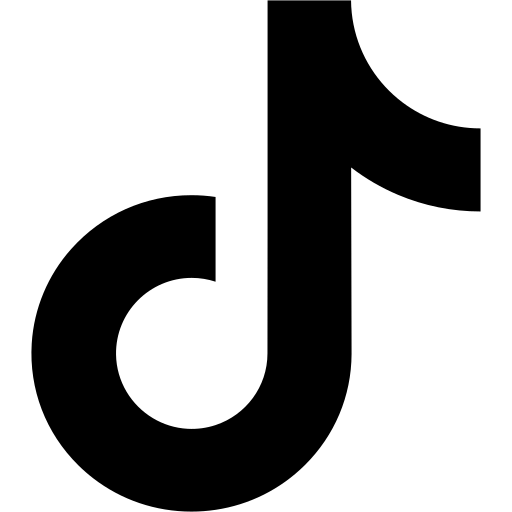Перспективы российской и казахстанской экономики
Фото: Depositphotos.
При всей важности предстоящей в Стамбуле встречи по поводу переговоров Украины и России, самое главное мировое событие этих дней – не про это. Оно звучит так: Соединенные Штаты и Китай договорились приостановить действие части взаимных пошлин на 90 дней, перерыв в действии этих тарифов вступит в силу с 14 мая.
Значит ли это, что начавшаяся было и так напугавшая мировую экономику торговая "холодная война" не состоится вообще или пройдет про "облегченному варианту"? Ratel.kz побеседовал об этом с Дмитрием ГОЛУБКОВЫМ, известным российским экономистом, инвестиционным аналитиком, автором монографий по проблемам корпоративного управления в России и движения капиталов.
- Дмитрий, договоренность США и Китая о приостановке действия части торговых пошлин стала мировой сенсацией, по-моему, даже большей, чем апрельское заявление Дональда ТРАМПА об их введении вскоре после его вступления в должность президента. Вы тоже удивлены?
- С точки зрения экономиста, это вполне ожидаемо, особенно если принять во внимание экономическую историю последних двухсот лет. Протекционизм мог работать тогда, когда глобальный капитализм только начинал развиваться. Тогда попытка поднять свою национальную промышленность за счет ограничения импорта из тех стран, где промышленность уже встала на ноги, у некоторых стран увенчалась успехом. Во второй половине XIX века это, например, удалось сделать в Германии и в США. Для успеха этих мероприятий нужно было иметь большой внутренний рынок для собственной продукции. А вот, например, у стран Латинской Америки такого не получилось, несмотря на все попытки. В азиатских странах в XIX веке это тоже не вышло (за исключением Японии). Правда, в Азии во второй части ХХ века изобрели другой способ развития своей промышленности, так называемый "агрессивный экспорт", и для этого потребовалось включение этих стран в так называемую систему "Pax Americana", "Мир по-американски", где в те времена превалировала свободная международная торговля. Так появилось такое явление в мировой экономике, как "азиатские тигры" - Тайвань, Южная Корея, Гонконг, Сингапур. Потом, заметно позже, в этот клуб подтянулся такой гигант, как Китай.
Отличие нынешнего момента от того, что было в XIX или даже в XX веках, заключается в том, что современная экономика - это сложная вещь. Намного более сложная, чем даже то, что было пятьдесят лет назад. Сейчас номенклатура производимых товаров и услуг, их сложность, выросли многократно, технологические цепочки теперь пролегают через десятки стран. Поэтому, если что-то этим цепочкам где-то препятствует, это начинает вредить всем. Протекционизм сегодня, это как слон в посудной лавке, он самим американцам может причинить много проблем. Сегодня невозможно повторить протекционистский опыт XIX века. Поэтому трамповскую политику в какой-то степени можно интерпретировать как "взятие на испуг", как в старом советском фильме "Место встречи изменить нельзя". То есть испугать торгового партнера, рассчитывая впоследствии договориться на своих условиях.
И определенный эффект есть: Китай пошел на переговоры, санкции отложили. Это радует – ибо в прошлые эпохи избыточный протекционизм приводил всех к печальным последствиям.
- Можно ли теперь считать, что та острота, которая зазвучала в мировых прогнозах после первых угроз Трампа, она ушла совсем, или могут быть рецидивы?
- Мне кажется, могут, потому что в современных США задуманная реиндустриализация, ради чего, собственно, из нафталина достали такой инструмент, как протекционизм, может не состояться. Реиндустриализация Штатам действительно нужна: у них хронический торговый дефицит и дефицит текущего счета платежного баланса, они накапливают чистый внешний долг. Впервые американцы среагировали на это, как на проблему, в первый президентский срок Трампа. Продекларировали идею "сделать Америку снова великой", вернуть ее в "золотой век". То есть в 1950-1960-е годы, когда американский рабочий получал высокую зарплату, его жена могла не работать, а заниматься детьми и домом… Но тогда Штаты были глобальным промышленным и научно-технологическим лидером, а сейчас они по большому счету уже вторая экономика мира, производят 15% мирового ВВП по курсам паритета покупательной способности, тогда как Китай – уже 20%. И американцам теперь придется свою торговую политику выстраивать в зависимости от того, что делают другие игроки. Если просто всем противостоять, то может ничего не получиться, разве что на внутреннего потребителя переложат расходы на реиндустриализацию. А она может не состояться, потому что это не такое уж простое дело: нужно несколько десятков лет кропотливой системной работы, а есть ли этот срок у американцев - это большой вопрос. Ведь остальные-то страны тоже не стоят на месте и развиваются, капитализм вовсю двигает вперед азиатские экономики. Поэтому есть некоторый риск того, что США, убедившись, что им не удается догнать Китай в производственном плане, могут пойти на более острую конфронтацию с ним.
- А вы считаете, что реиндустриализация у Трампа может не получиться?
- Пока есть могучий Китай, осуществить реиндустриализацию в США, на мой взгляд, довольно трудно, потому что Китай относительно более конкурентоспособен. При прочих равных условиях, если Китай столкнется с какими-то внутренними проблемами, снизит объем своего экспорта, тогда у США появятся какие-то перспективы заменить китайские товары, но такую ситуацию пока можно рассматривать главным образом теоретически. В этой связи нельзя исключать, что какая-то из американских администраций может пойти на более острую конфронтацию с Китаем. Но пока, к счастью, у Китая и США получается разговаривать. Американцам, по-видимому, просто необходимо какое-то время, чтобы привыкнуть к более скромному месту своей страны в мировой экономике, нежели это было в 1950-60-е годы.
- А то, что в США с определенного времени началась деиндустриализация, когда производства выводили в другие страны, насколько это была осмысленная политика? Или все происходило в рамках "рыночной стихии"? Кстати, вскоре после распада СССР в Казахстане, да, наверное, и в России был популярен тезис, что современные развитые государства в основном развивают у себя сферу услуг и на этот опыт и надо ориентироваться. В США тоже была такая иллюзия?
- В США всегда существовали и существуют рыночная экономика и капитализм, и, соответственно, решения о месте размещения основных фондов принимаются не в Белом доме, не в Конгрессе, и не в Госплане, которого там нет. Это делается на уровне бизнеса, хозяев предприятий, исходя из того, где прибыльнее производить ту или иную продукцию. Таким образом, деиндустриализация в США происходила постепенно. Там не было никакого конкретного плана, просто по мере включения в глобальную капиталистическую экономику и торговлю азиатских стран становилось очевидно, что там производить кратно дешевле, причем с сопоставимым качеством. Американское государство и не смогло бы предотвратить этот процесс, у него рычагов не было, да их это и не волновало, пока ситуация не достигла такого накала, что к власти пришел Дональд Трамп, который поднял эту тему как главную в экономике и политике США. Всем вдруг стало очевидно, что услуги, это, конечно, интересно, но те, кто производит промышленную продукцию, особенно высокотехнологичную, тому достается и львиная доля всей добавленной стоимости. И услуги хорошо развиваются в тех обществах, где хорошо развита промышленность, производящая высокую добавленную стоимость.
- Вы упомянули Госплан - советский символ нерыночной экономики. А совсем фантастично предположить, что в результате всех этих процессов он в США появится? То, что сейчас происходит, может привести к каким-то серьезным сдвигам в организации экономики на концептуальном уровне, и она станет не такой свободной?
- Какие-то варианты усиления государства в экономике США вполне могут появиться. В середине XIX века что-то подобное американцы уже делали, чтобы из сырьевой и аграрной полупериферии мировой экономики стать ее промышленным лидером. Там, конечно, Госплана как такового не было, но был ряд комплексных мероприятий, которые потом обобщил в своих трудах немецкий экономист Фридрих ЛИСТ. Внедрялись четыре базовых императива: протекционизм, создание единого общенационального рынка, мощной банковской системы (чтобы канализировать сбережения населения в инвестиции), а также велась активная деятельность по повышению уровня грамотности населения. Делалось это с помощью рыночных механизмов, но с использованием административных методов, и они сильно подтолкнули развитие экономики США в заданном направлении. Госплана сейчас не появится, но вмешательство государства в деятельность бизнеса может возрастать, особенно в случае трудностей с реиндустриализацией.
- Есть мнение, что сильнее от торговой войны США и Китая пострадает Пекин, так как утратит значительную часть своего экспорта, который сейчас идет в Америку…
- США самый крупный покупатель товаров, которые экспортирует Китай. Однако по последним данным за 2023 год доля США в китайском экспорте составляет порядка 15%. Потеря такого объема, конечно, была бы болезненной, китайский экономический рост существенно бы замедлился, но все же это не треть и не половина экспорта. И потом китайцы последовательно развивают внутренний рынок. В Китае проживает почти полтора миллиарда человек, из них примерно 300-400 миллионов человек имеют доходы на уровне стран Евросоюза. Кстати, тот же Евросоюз - по-видимому, ему совершенно не интересно конфликтовать с Китаем, там готовы продолжать покупать китайскую продукцию. Для современного Китая, судя по внешнеторговой статистике, на США "свет клином" не сошелся. За последние лет двадцать-тридцать все очень сильно поменялось. Поэтому мы и видим такую болезненную реакцию США.
- В самом Китае ведь тоже нарастают те проблемы, которые так беспокоят американцев, у них самих уже нет той дешевой рабочей силы, что была конкурентным преимуществом когда-то, стареет население, более того, в позапрошлом году впервые зафиксирована его убыль… То есть демографический тренд один?
- Он у многих такой, этот тренд, только в разной степени реализованности. Городское население, поздние браки с низкой рождаемостью. Численность населения стабилизируется или даже сокращается. Штаты в этом ушли вперед, а у Китая пока еще 35% населения живет в деревне. Но и Пекин идет тем же путем, только с определенным временным лагом. В США тренд на снижение населения нивелируется мощным притоком мигрантов из Латинской Америки, где демографическая ситуация иная, но это сложная рабочая сила с точки зрения качества. А китайцы – это носители конфуцианской этики, которая чуть ли не в ДНК "встроена". Дисциплина, почитание руководства, но при этом деловая коммерческая хватка. Сейчас ведь во многих странах Юго-Восточной Азии очень большая часть бизнеса находится в руках китайцев. Пройдет лет десять, и доля экспорта Китая, приходящаяся на США, вероятно, еще больше снизится.
- Может, стоит ждать в мировой экономике "нового Китая" в лице Индии?
- Здесь вопрос. Экономика Индии сейчас бурно растет с точки зрения душевого и общего ВВП, хотя по душевому ВВП рост во многом поглощается ростом населения - Индия еще не завершила так называемый демографический переход. И тех традиций и опыта, что есть в конфуцианском обществе, там нет.
- Каковы перспективы нефтяного рынка на фоне торговой войны и таких вот пауз в ней?
- Цены на нефть могут пойти вниз, даже если по торговым вопросам Пекин и Вашингтон договорятся. Если Саудовской Аравии не захочется быть стабилизирующим производителем нефти, как это уже произошло в середине 1980-х, и они решат добывать и экспортировать столько нефти, сколько могут, пусть и при пониженной цене, цена на нефть может серьезно уйти вниз. Заметим, что у многих производителей нефти в регионе Персидского залива, в частности у Кувейта или ОАЭ, доказанные запасы нефти почти такие же, как у России, но себестоимость добычи в Персидском заливе гораздо ниже, а численность населения в Кувейте и ОАЭ кратно меньше, чем в России. Поэтому монархии Персидского залива могут позволить себе выполнять задачи развития даже при более низких ценах, чем евразийские производители нефти. Сейчас риторика саудовских властей чем-то стала напоминать ту, что была в середине 1980-х. Причем, чтобы цены на нефть понизились, даже не обязательно очень сильно наращивать добычу. В силу особенностей рынка, где спрос и предложение низкоэластичны по цене, даже небольшое увеличение предложения ощутимо снижает цены.
- Как вы на всем этом фоне оцениваете возможные перспективы российской и казахстанской экономики?
- Тут на самом деле надо следить за натуральными объемами экспорта нефти и газа и мировыми ценами на эти ресурсы. В России в валютных доходах от экспорта доля нефтегазового сырья порядка 50%, эта доля держится уже несколько десятилетий. Если произойдет серьезное снижение цен, наша экономика по реальным душевым доходам может уйти куда-то ближе к уровням первой половины 2000-х.
- Не 1990-х?
- Нет, такого уже не будет, в те годы ситуация была принципиально другая – шла приватизация, делили советскую собственность, поэтому спад промышленности был гораздо сильнее. Сейчас при прочих равных, может быть снижение реального ВВП, душевых доходов, но уже не так, как в 1990-е. Сейчас в России рыночная экономика, на девальвацию рубля она отреагирует ростом импортозамещения. Не факт, что это позволит существенно повысить душевой ВВП, ибо для этого нужны несколько десятилетий скрупулезной работы по развитию промышленности. Причем это обычно требует значительной роли государства. Частный бизнес такое не всегда может потянуть, его стихия - это быстрая прибыль. В международном разделении труда мы конкурентоспособны в экспорте нефти и газа, а для экспорта самолетов, кораблей и смартфонов нужна большая подготовительная работа. Это применимо и к Казахстану, учитывая структурную близость наших экономических моделей.
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!