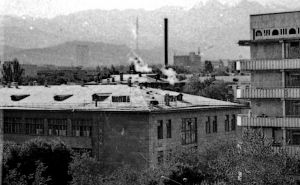Репортажи из прошлого от Андрея Михайлова
Фото: из середины 90-х, сделанное на городской барахолке, иллюстрация причин исчезновения саксаула из обихода.
В начале 1960-х годов прошлого века этот странный атрибут нормальной жизни обязательно маячил где-то в поле зрения горожан. Во дворах, возле подъездов, вблизи сараев непременно можно было найти здоровую каменюгу. Которую вполне можно считать характерным элементом не только городского бытового пейзажа тех лет, но и важную составляющую обихода жителей.
Живой уголь Алма-Аты
...Сегодня уже мало кто задумывается, чем отапливались зимой жилища пращуров в те времена, когда в столице Советского Казахстана не было ни газа, ни центрального отопления, ни отопителей-монополистов. Кстати, сами зимы тогда бывали куда более суровыми, чем ныне. И не только по воспоминаниям старожилов, но и по данным климатологов.
На снимке: зимой дефицит тепла оставался проблемой многих организаций, а потому эти студентки физфака КазГУ одеты изрядно (конец 1950-х).
Ещё в начале 60-х город обогревался печками. И живой огонь горел даже в тех квартирах многоэтажных домов, в батареи которых поступало тепло от ближайших котельных. Например, у нас, на третьем этаже в самом центре города, печка под водогрейной колонкой разжигалась каждый раз, как только кто-то хотел принять ванну или затевалась "большая стирка".
А вот топились алма-атинские печки фирменным топливом, неизвестным в других частях СССР. Саксаулом. И это был наиблагороднейший продукт сгорания. Не какой-то там вонючий уголь. А живое топливо, распространявшее не только тепло, но и стойкий аромат.
Саксауловые леса, равных которым в мире более не было нигде, широкой полосой тянулись тогда ещё по всему пустынному поясу Казахстана. От предгорий Урала и Аральского моря - до сопок Алтая и озера Зайсан. И именно благодаря этому во многом и появилась возможность для относительно комфортных зимовок кочевников Великой Степи, крестьян-переселенцев в степных районах, а позже и горожан стремительно урбанизируемой республики.
Саксаул в качестве дров – это вообще-то высокая поэзия. Загорается с полспички, горит ровно и спокойно, без нервов и искр, без треска и брани. Мягкое попыхивание саксаулового костра лишь несколько оттеняет окружающую гармонию и великую тишину ночной пустыни. То же самое таинство происходило и в печурке городской квартиры.
Думаю, что многие мои сверстники разделят со мной архаичное воспоминание волшебного момента "медитации" перед печкой. Сидеть за неторопливой беседой у мирно полыхающих плит и печек особенно любили самые малые и самые старые. Да и чего ещё было делать долгими зимними вечерами? Телевидение только подбиралось к душам людей, поколения которых без малого миллион лет вынуждены были "влачить существование" и зачарованно глядеть не в экран, а в огонь.
Если же оставить поэзию и обратиться к более научным параллелям, то выяснится, что теплотворная способность саксаула в 1,7 раза превышает показатель таких традиционных дров, как берёзовые, и примерно схожа с таким топливом, как бурый уголь.
Нет, конечно, кто-то и в те времена топил печки каменным углём, но это – в крайнем случае, когда по каким-то причинам не удавалось купить саксаула. Немаловажным преимуществом дров из пустыни считалось то, что они были несравненно чище ископаемого топлива, от них не летело по комнатам чёрной пыли и тёмной копоти.
Дерево-памятник
Если по справедливости – саксаулу вообще-то давно пора поставить памятник на какой-нибудь главной площади. Потому что столько добра, сколько сделало для человека это невзрачное деревце, казахстанцы не получили даже от знаменитых яблонь. Это уже в наше время его бездарно доизвели на шашлыки и барбекю, а ещё полвека назад саксаулом согревалась значительная часть жилого сектора Алма-Аты. Во всяком случае – "Саксаульную базу", находившуюся где-то рядом с Рощей Баума, наверняка помнят все коренные алмаатинцы.
Что говорить о трудных временах, когда саксаул оставался единственным топливом не только для людей, но и для фабрик-заводов, а также паровозов-пароходов. Кстати, в первые годы функционирования Турксиба, связавшего Алма-Ату со всей страной и выведшего наш город из пут дремучего захолустья, движение паровозов осуществлялось во многом именно на саксауловой тяге. Специально для снабжения топливом была проложена узкоколейка к девственным саксаульникам пустыни Моинкум.
Ещё полвека назад площадь саксаульников превышала размеры всех прочих лесов Казахстана. Так что, как писал один из патриархов казахстанской географии Н. И. ПАЛЬГОВ, "благодаря саксаулу лесистость Кзыл-Ординской области больше, чем казахстанской части Алтайских гор". Но XX век стал не лучшим временем для существования саксауловых лесов в Казахстане. (Как, в общем-то, и его последовавшее продолжение.) Причиной тому – крайне скромная продуктивность саксаульников.
Так что – памятник будет вполне уместен. Тем более что сегодня в Казахстане крупных деревьев саксаула уже практически не осталось, лишь кустарник, хотя ещё недавно он дорастал в природе до 10-12 метров. А всё дело в том, что при лесоповале в пустыне особого напряжения ума и вложения средств вообще не требуется. Не нужно даже бензопилы. Достаточно пары рабочих рук. Огромные многометровые древеса саксаула, даже живые, легко выламываются и не очень сильным человеком. Их может сломать и ребёнок-переросток. Ради забавы.
Куда труднее восстановить утраченное. Вот почему на месте былых саксауловых лесов повсеместно воцаряются уродливые язвы, а отыскать нынче крупный и нетронутый массив саксаульников на всём пространстве от Урала до Алтая – уже практически невозможно.
Но вернёмся к камню. К камню во дворе. Он имеет непосредственное отношение к качествам основного топлива, которым отапливались дома алмаатинцев (да и большой части прочих казахстанцев). Саксауловая древесина в силу своей вязкости не поддаётся ни топору, ни пиле. Зато легко крушится от сильного удара. О тот самый камень.
Нескончаемый треск от разбиваемого саксаула, стоявший в зимнее время в Алма-Ате, был столь же характерен, как и гулкие хлопки от выбиваемых на свежем снегу ковров и одеял.
Как в Алма-Ате радовались ТЭЦ
На снимке: Алма-Атинская ТЭЦ начала строиться ещё в середине 1930-х.
Печное отопление вообще-то придавало отапливаемой всей той зимней Алма-Ате не только характерный взъерошенный облик, но и свой неповторимый дух. То, что наши печи топились саксаулом, хорошо определялось не только по запаху, но и по цвету сиреневого дыма.
Всякую зиму в морозный воздух над городом устремлялись столбы многочисленных "дымов", выпускаемых множеством труб над "верненскими домиками". Но не они определяли основной состав городского воздуха тех лет. В начале 1960-х каждая уважающая себя организация, а вместе с ними и большинство многоэтажных домов в Алма-Ате, обзаводились собственными кочегарками. А это значит, что над центральной частью города в отопительный сезон коптили небо не только несколько тысяч труб частного сектора, но и несколько сотен разнокалиберных котельных. Чёрный угольный дым которых начисто перебивал патриархальный саксаульный аромат частников.
Кардинально положение дел начало меняться в 1961 году, когда Алма-Атинская ТЭЦ-1 начала, наконец, отвечать требованиям, заложенным в аббревиатуре и давать столице не только электричество, но и тепло. Именно тогда появились в городе первые сети централизованного теплоснабжения, про износ которых мы до сих пор слышим перед каждым повышением тарифов. Благодаря ТЭЦ-1 алма-атинский пейзаж освободился к 1981 году от 735 труб разных ведомственных кочегарок.
Небо над городом, правда, не стало от того девственно чистым.
На снимке: кочегарки оставались непременным фоном городской жизни тех лет.
Фото: Андрея Михайлова, из архива автора и изданий прошлого века.
Андрей Михайлов. Автор серии книг "Как мы жили в СССР".
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ И ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ КАНАЛЕ В TELEGRAM!